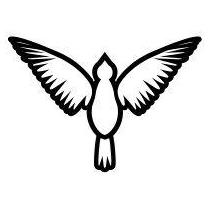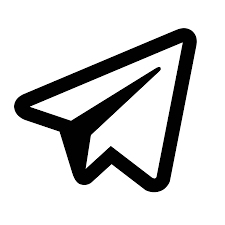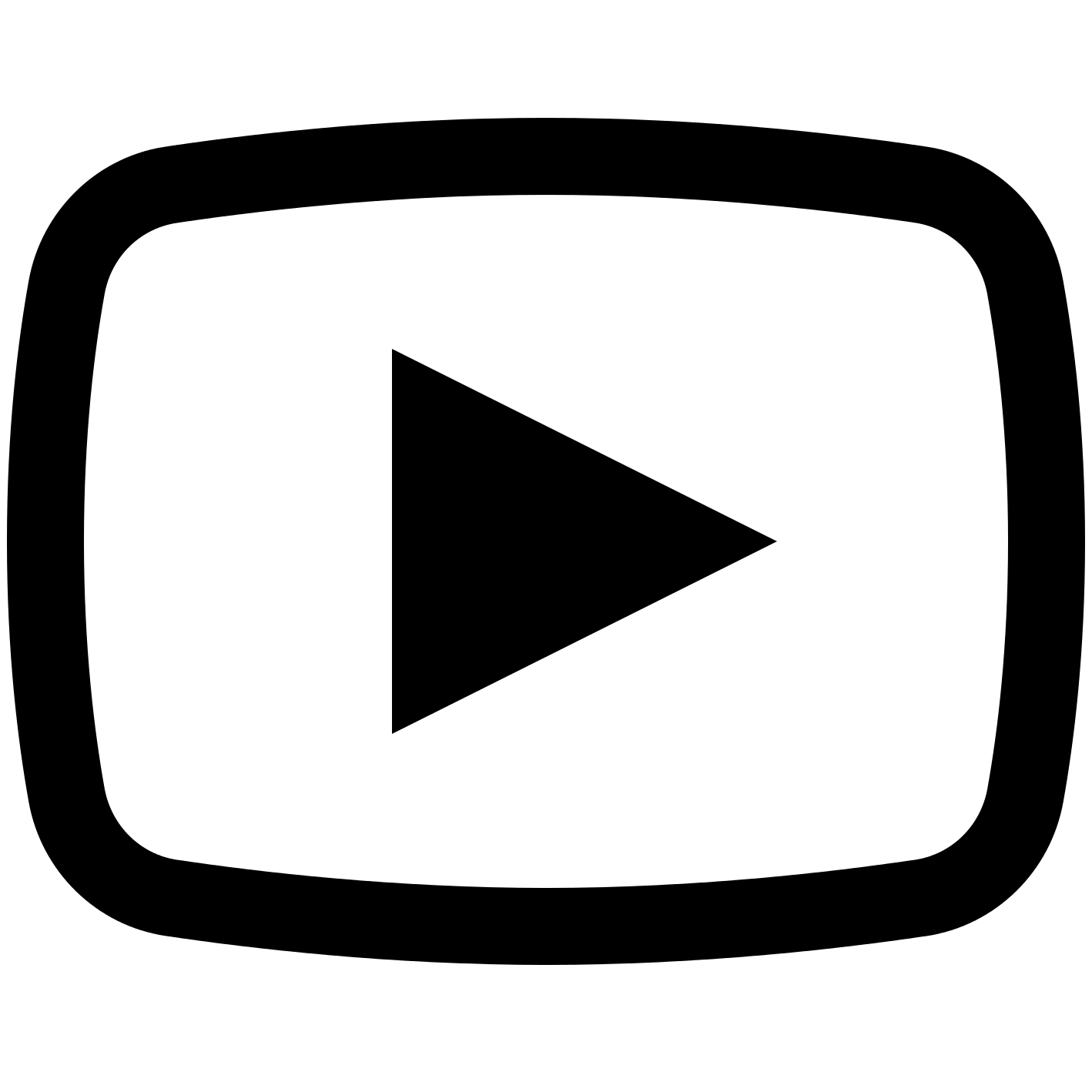Отличнейший список! Придраться могу только к бессмысленному комиксу по «Американским богам» (чего портить хорошую книгу?), не вызвавшему ярких эмоций «Сочувствующему» и запискам Фабра. Остальное планирую читать немедленно!
Осень — самое время накрыться пледом. А книги, запланированные издательствами, под стать настроению: меланхоличные, грустные и даже несколько трагичные. Мы выбрали девять лучших — и рассказываем, почему их должны прочитать и вы.
Али Смит, Осень

Британку Смит, в прошлом году едва не отхватившую Букеровскую премию, называют одной из самых изобретательных писательниц нашего времени, а её «Осень» окрестили первым брекзит-романом. Помимо бархатистого, обласканного любовью к Джону Китсу и вообще к поэзии языка, текст включили в шорт-лист Букера и из-за того, что он рассказывает о важном-преважном моменте в новой британской истории: об изоляции тела страны от континента, тектонических сдвигах в политике и жизни простых людей, ну и о любви, конечно. Дэниелу сто один, а Элизабет — тридцать два. А ещё это первый роман из предстоящего «метео»-цикла — дальше будут «Зима», «Весна» и «Лето», где Смит изучит, как погода определяет сознание милых англичан.
Кристиан Крахт, Мертвые

В конце жизни швейцарский режиссёр Эмиль Нэгели скажет, что за историю кино было пять гениев: Виго, Брессон, Довженко, Одзу и он сам. Но до этого ещё далеко, а в начале романа не слишком преуспевающий Нэгели находит бобину с плёнкой, документирующую харакири Масахико Амакасу, и тут же отправляется на поиски автора или хотя бы информации о создании фильма. Параллельно Крахт перенесёт нас в Японию, где Амакасу уединяется в лесах, трётся об деревья, своей вундеркиндностью пугает родителей и попадает на службу нацистской разведки — тут-то две сюжетные линии начинают работать синхронно.
Нужно уточнить, что Крахта, кажется, не столько интересует затенённая история кино или переплетение путей этих двух танатологов от синематографа. Нет, в этом романе культурные, географические различия — вообще материальность происходящего размывается в неустанном движении-в-смерти, исступлённом сосуществовании живых с потоками мёртвых людей и невозможности от них избавиться. Каверна рта умирающего отца, застывшая на сетчатке глаза Нэгели, бритвенно острый танто японца — те необходимые вещи для изобретения тёмного, землистого языка Крахта.
Нил Гейман, Скотт Хэмптон, Американские боги

Кажется, все уже успели прочитать плотный, весом с упитанного котёнка, роман Геймана, посмотреть сериал и ещё раз для сравнения перечитать Геймана. Зачем ещё и комикс-адаптация? Отчасти на этот вопрос отвечает грубоватая маслянистая рисовка Скотта Хэмптона, реабилитирующая какую-никакую оригинальность. Тут заржавевший сюжет превращается в мифический роуд-трип бога Одина и его наёмника Тени по ландшафтам с примесью традиционной английской живописи. Чем не повод ещё раз стать свидетелем драки с Лепреконом, шахматной партии со славянским Чернобогом и схваткой старых богов с масс-медиа, происходящих на фоне полотен Уильяма Тёрнера?
Ричард Йейтс, Нарушитель спокойствия
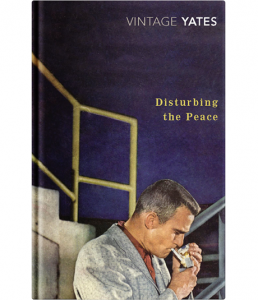
О положении Ричарда Йейтса в России складывается двоякое мнение: с одной стороны, его достаточно активно, из года в год переводят, а с другой — о нём будто почти никто не знает и рецензий на его романы встречаешь всё реже.
Меж тем Йейтс — это такая глыба, в своём размахе сопоставимая с фигурами Апдайка и Фицджеральда и вместе с ними обвинительно тычущая грозным перстом в так называемую американскую мечту. Почти все герои Йейтса — это растяпы-самодуры, пытающиеся влиться в струю и ухватить капитализм за хвост. А их карьеры (часто провальные) — слепок американской культуры с её фетишизацией финансовых потоков и статусного ярлыка успешности. Вот и Джон Уайлдер из «Нарушителя спокойствия», случайно попав в психиатрическую клинику, выписывается и засучив рукава намерен преподать Голливуду уроки сценарного мастерства — только что-то предсказуемо не получается.
Саманта Швеблин, Дистанция спасения

Открывать книги современных латиноамериканских авторов всегда предсказуемо — это неизбежно чарующе-сновидческая проза, приседающая в почтительном книксене перед тенями забытых предков вроде Габриэля Гарсиа Маркеса или Хуана Рульфо. С другой стороны, это, наверно, доступное им и только им алхимическое знание о том, как фантасмагория способна перечёркивать явь.
Но у Швеблин получилось даже лучше: здесь не только магический реализм с психологическими наслоениями — здесь ещё и экохоррор. А рассказывает этот роман (попавший в шорт-лист международного букера, а американцами почему-то переведённый как «горячечный сон») об Аманде и мальчике Давиде и о том, что им на голову всегда да обрушится какая-нибудь мистика. Малыш становится то ли психопомпом, то ли экстрасенсом, а то и одержимым красными червями из близлежащей реки. Небольшая ремарка: Аманда вспоминает описываемые события из больничной койки, что заставляет вспомнить беккетовский «Мэлон умирает». И как и там, верить ли реальности сюжета или принять всё за плод предсмертной галлюцинации — решать только вам.
Камилла Шамси, Домашний огонь

Бывают такие романы об эмигрантах, которые уже буквально на первых страницах принимаются выжимать из читателя слезу: здесь не болит, лицемерные демократы? А если нажмём здесь, белая Америка? И не забудем постучать молоточком по суставам постколониальных империй. Никто не отрицает всех тягот эмиграции и этнических групп, но многие такие авторы выбивают эмпатию уж как-то чересчур топорно и прямолинейно.
Примерно того же ждёшь от Шамси, попавшей в политически ангажированный Букер-2017. И вроде бы не ошибаешься: на первых страницах начинает щипать глаза от глумления над бедной мусульманкой, но ближе к середине повествование кренится совсем другую сторону — и вот вы приводите в порядок генеалогическое древо одного джихадиста или копаетесь в семейном шкафу со скелетами. И в итоге роман завершается одной из самых сильных финальных сцен в литературе, как об этом пишут многие критики.
Колм Тойбин, Дом имен
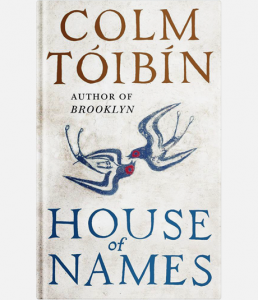
В этом романе Колм Тойбин будто бы прогуливается в греческом зале музея истории. Стряхивая пыль со скульптур, он оживляет их и, приведя в боевую готовность, перемещает в свою трактовку древнегреческих трагедий. Другими словами — это вполне умелая попытка стряхнуть паутину с текстов Эсхила, Софокла и Эврипида.
Строго говоря, «Дом имён» повторяет сюжет трагедий: ради попутного ветра и приязни богов Агамемнон приносит в жертву свою дочь Ифигению, тем самым запуская цепочку вендетты. Жена жаждет убийства мужа, дети в прямом смысле на ножах с матерью, в других историях семьи все душат друг друга кровными узами. Но заслуга Тойбина вовсе не в пересказе, а в проступающей сквозь страницы выпуклой тьме, пульсирующем ощущении паранойи и духоте придворных спален, где планируется очередное предательство.
Ян Фабр, Ночные дневники

Записки 1970–1980-х годов одного из самых известных художников современности и единственного выставлявшегося в Эрмитаже при жизни. Эта сомнамбулическая, напоминающая автоматическое письмо Анри Мишо и Андре Бритона фиксация повседневности служит ключом к пониманию творчества бельгийца. Почему он так увлечён ночью, перетекающей метаморфозой тела, насекомыми и поучаствовали ли все они в происхождении человека?
Вьет Тхань Нгуен, Сочувствующий
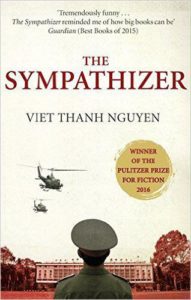
Ухвативший Пулицеровскую премию, «Сочувствующий» будто бы обрамлён идеей двойственности: наполовину француз, наполовину вьетнамец, главный герой разрывается между жизнью в Америке и Сайгоне, к тому же он ещё и двойной агент. Но согласитесь, банальный шпионский детектив вряд ли получит Пулицера — поэтому логично представить, что роман напичкан не только холодящим саспенсом и головокружительными сценами перестрелки, но и переплетающимися в единую канву темами деперсонализации, глобальных перемен, дружбы и предательства.