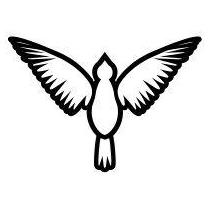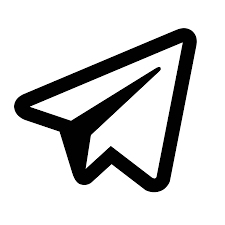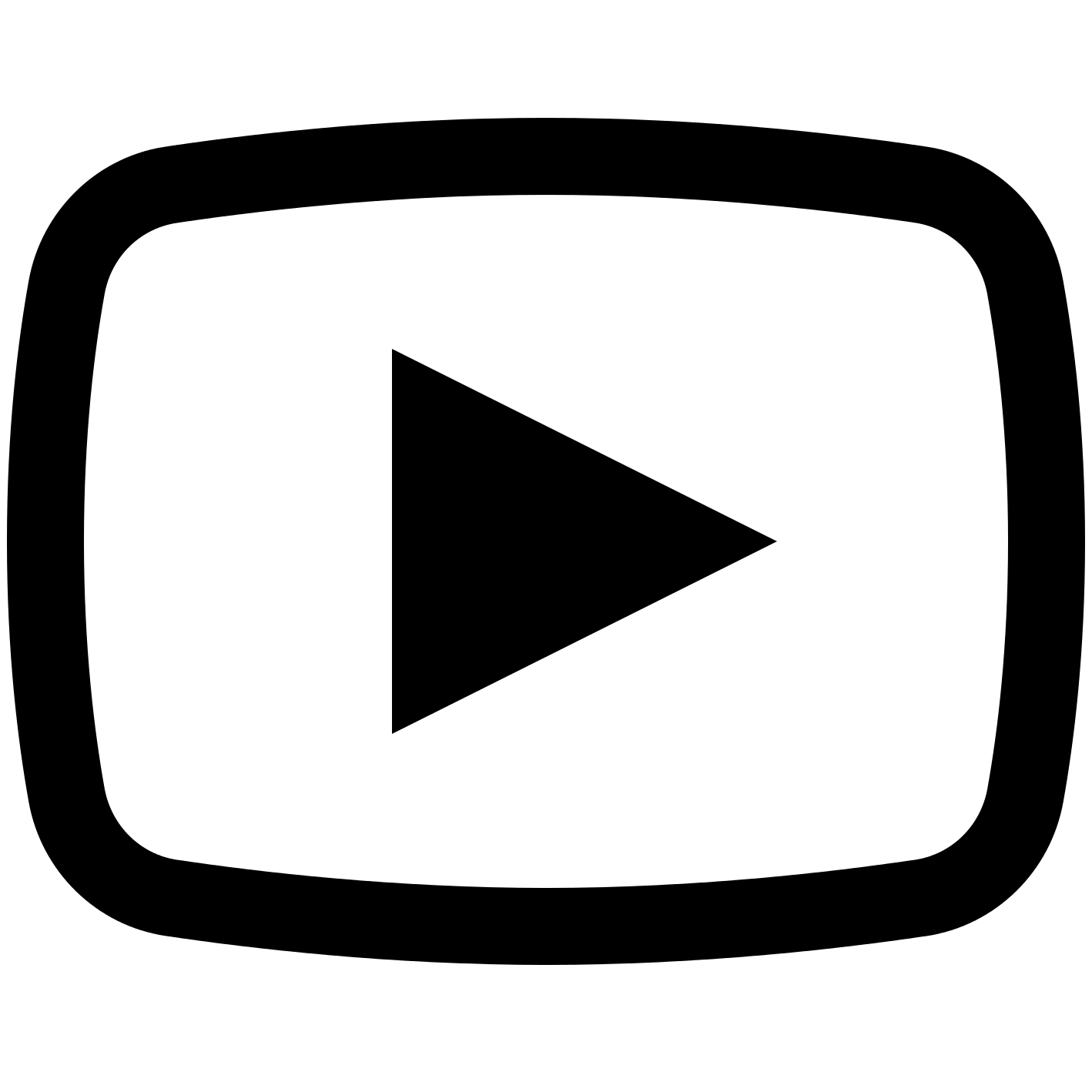Один из самых лучших, грамотных и убедительных список за последнее время. Я, урча от удовольствия, утащила себе многих и сразу же начала читать (а это теперь редко бывает). И за Юхана Теорина — отдельное спасибо.
Вот уже двести лет Швеция пользуется репутацией фабрики книжных бестселлеров и лаборатории литературных идей и технологий. Литературный критик, писатель и переводчик Лев Данилкин отобрал 12 книг, по которым, на его взгляд, можно составить представление об уникальности шведской литературы.
1. Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»

Загадка: почему сугубо локальная книга – написанное по заказу Национальной ассоциации педагогов пособие по географии Швеции в форме волшебной сказки — стала интернациональным бестселлером; по-видимому, в начале ХХ века в мире завершался процесс образования национальных государств, и нациям потребовались не только мифы, которые к тому времени уже были предоставлены писателями-романтиками, но и естественнонаучные ориентиры, изложенные в популярной форме — и способные поддержать развитие внутреннего туризма. В сущности, легенда об уменьшившемся до размера огурца мальчике, облетевшем страну на гусе, была историей про простака, который сначала не знал ничего, кроме собственного двора, а затем открыл для себя территории, принадлежащие нации-семье, в широком смысле, большому национальному государству, – и преобразился, вырос – как ментально, так и физически. Интересно что Лагерлёфовская Швеция – не просто особая географическая область, но, по сути, осуществленная утопия (демократичная страна с богатым природных разнообразием, в которой существа разных биологических видов и степеней реальности — от гусей до шведского короля, от гнома до городского памятника – способны находить общий язык и кооперироваться друг с другом). Похоже, уже тогда Швеция представляла собой — как для аборигенов, так и для посторонних наблюдателей – прототип, модель и аналог Небесного Иерусалима. 110 лет спустя эту же коллизию зафиксирует российский писатель Олег Нестеров («Небесный Стокгольм»).
2. Хеннинг Манкелль «Китаец»
 «Китаец» – детективный роман, любопытный тем, что в нем, по существу, зафиксирован новый статус Швеции и шведов в мировом сообществе. Одержимая соблюдением свободы слова, прав человека и принципов fair play в капиталистическом социуме в целом, Швеция сейчас – «мировой журналист», без страха и упрека, с впечатляющей методичностью и с миссионерским упорством распутывающий причины возникновения общественных язв — и в локальном, и в мировом масштабе. Неудивительно, что судья Биргитт Рослин (нечастый случай, когда Манкелль обошелся без своего классического героя Курта Валландера), расследующая дикую резню людей и животных в отдаленной деревушке в Швеции, переключается на пристальные наблюдения за китайской экспансией в Африке; Китай практикует жестокий, «диккенсовский» капитализм в стиле 19 века, и раз так, Швеция — его естественный антагонист: твердыня социализма, которая находит в себе силы не просто плодить авторов детективных романов и героев нуар-боевиков, расследующих конкретные правонарушения, но противостоять новым империям-колонизаторам. Разумеется, все эти «глобальные» коллизии элегантно упакованы в корпус «обычного детектива» – и активируются только если вы сами готовы впустить их в сознание.
«Китаец» – детективный роман, любопытный тем, что в нем, по существу, зафиксирован новый статус Швеции и шведов в мировом сообществе. Одержимая соблюдением свободы слова, прав человека и принципов fair play в капиталистическом социуме в целом, Швеция сейчас – «мировой журналист», без страха и упрека, с впечатляющей методичностью и с миссионерским упорством распутывающий причины возникновения общественных язв — и в локальном, и в мировом масштабе. Неудивительно, что судья Биргитт Рослин (нечастый случай, когда Манкелль обошелся без своего классического героя Курта Валландера), расследующая дикую резню людей и животных в отдаленной деревушке в Швеции, переключается на пристальные наблюдения за китайской экспансией в Африке; Китай практикует жестокий, «диккенсовский» капитализм в стиле 19 века, и раз так, Швеция — его естественный антагонист: твердыня социализма, которая находит в себе силы не просто плодить авторов детективных романов и героев нуар-боевиков, расследующих конкретные правонарушения, но противостоять новым империям-колонизаторам. Разумеется, все эти «глобальные» коллизии элегантно упакованы в корпус «обычного детектива» – и активируются только если вы сами готовы впустить их в сознание.
3. Эсайас Тегнер «Сага о Фритьофе»
 Первый международный шведский бестселлер был опубликован в 1825 году — и сразу же переведен на все европейские языки. Это грандиозное полотно – героическая поэма в стихах, наполненная студеным зимним воздухом, пронизанная мотивами древнескандинавской мифологии и пропитанная особым нордическим элегизмом; нечто вроде «Илиады», но «Илиады», созданной из материала исландских викингских саг; в роли Гомера выступал шведский романтик, склонный к затяжным депрессиям и с предрасположенностью к душевной болезни. Любопытно, что в главном герое — несмотря на разницу масштабов – ощущается нечто от самого Тегнера: Фритьоф — героическая личность, озабоченная любовью, сексом, проблемами чести и неизбежностью смерти, нередко впадающая в уныние. Несмотря на намеренно архаизированную форму — или благодаря ей — поэма до сих пор производит оглушительное впечатление; и вряд ли случайно, что одним из тех, кто принял участие в негласном конкурсе на лучший перевод «Фритьофа», был Иосиф Бродский.
Первый международный шведский бестселлер был опубликован в 1825 году — и сразу же переведен на все европейские языки. Это грандиозное полотно – героическая поэма в стихах, наполненная студеным зимним воздухом, пронизанная мотивами древнескандинавской мифологии и пропитанная особым нордическим элегизмом; нечто вроде «Илиады», но «Илиады», созданной из материала исландских викингских саг; в роли Гомера выступал шведский романтик, склонный к затяжным депрессиям и с предрасположенностью к душевной болезни. Любопытно, что в главном герое — несмотря на разницу масштабов – ощущается нечто от самого Тегнера: Фритьоф — героическая личность, озабоченная любовью, сексом, проблемами чести и неизбежностью смерти, нередко впадающая в уныние. Несмотря на намеренно архаизированную форму — или благодаря ей — поэма до сих пор производит оглушительное впечатление; и вряд ли случайно, что одним из тех, кто принял участие в негласном конкурсе на лучший перевод «Фритьофа», был Иосиф Бродский.
4. Карин Бойе «Каллокаин»
Самая знаменитая в шведской литературе – и долго считавшаяся главным антитоталитарным произведением всей западной словесности – антиутопия любопытна и как литературный памятник фобиям людей рубежа 1930-40-х годов, и как алармистский текст, по-прежнему не потерявший свою актуальность: устаревают технологии, но попытки осуществить «глобальную коллективизацию» и управлять, манипулируя сознанием жителей мира-муравейника, продолжаются и сейчас. Главный герой и рассказчик— работник Четвертого городка Химиков, создатель каллокаина, сыворотки правды, при помощи которой полиция может узнать, что на самом деле думает о власти любой житель империи. Империя – тоталитарное государство в духе оруэлловского «1984», замятинского «Мы» и брэдбериевского «451 по Фаренгейту» – напоминает гиперболизированную комбинацию гитлеровской Германии и сталинского СССР: казарма, населенная запуганными существами с искалеченной психикой. Это общество, в котором дети с 7 лет разлучаются с родителями и помещаются в особые милитаризированные лагеря, а преступные мысли – как в «Особом мнении» – подлежат превентивному наказанию.
5. Свен Линдквист «Уничтожьте всех дикарей»
 Меланхолический трэвелог, в котором описаны приключения передвигающегося по Сахаре на автобусе интеллектуала. Смысл путешествия – составление каталога мировых геноцидов и, шире, исследование истории понятия «уничтожение»; похоже на то, что геноцид — не просто случайный побочный продукт империализма, но продукт неизбежный, и осуществляемые задним числом попытки оправдать проявления беспредельной жестокости верностью идее прогресса, бременем белого человека, – просто бессовестны.
Меланхолический трэвелог, в котором описаны приключения передвигающегося по Сахаре на автобусе интеллектуала. Смысл путешествия – составление каталога мировых геноцидов и, шире, исследование истории понятия «уничтожение»; похоже на то, что геноцид — не просто случайный побочный продукт империализма, но продукт неизбежный, и осуществляемые задним числом попытки оправдать проявления беспредельной жестокости верностью идее прогресса, бременем белого человека, – просто бессовестны.
Именно этнические чистки Африки в 19 веке, доказывает автор, привели Европу в 20-м к Холокосту; сначала немцы построили концлагеря в Намибии — а уж потом в Польше. История уничожения аборигенов Тасмании накладывается на рассказ об истреблении «армии дикарей» при Обдурмане, события 90-х годов 19 века — на современность; монологи автора, испытывающего физическое страдание от ущерба, который нанесли его предки европейцы Африке, наполнены парадоксами: идеалы просвещения приводят к необходимости скорейшей — и максимально жестокой – цивилизации варваров. «Гитлер начал войну, чтобы получить больше сельскохозяйственных земель за несколько десятилетий до того, как все государства Европы стали платить своим фермерам, чтобы те сокращали обработку земель». Текст-ключ, при помощи которого Линдквист открывает доступ к самым темным уголкам истории европейской экспансии в XIX веке, – «Сердце тьмы» Джозефа Конрада.
6. Стиг Ларссон «Девушка с татуировкой дракона»
 Несколько потрепанный жизнью, но еще способный производить впечатление журналист нанят меланхоличным толстосумом, который единственный во всем мире не отчаялся найти исчезнувшую много лет назад любимую внучку: полицейское расследование ничего не дало, возможно, что-то обнаружит непрофессионал с цепким глазом. Журналист заводит шашни с помогающей ему странной хакершей, преследующей, впрочем, и кое-какие свои интересы. Она похожа на Пеппи Длинныйчулок, он — на сыщика Калле Блумквиста; вся эта серьезная история о по-настоящему рискующих жизнями взрослых людях, с одной стороны, страшно инфантильная, изобилует жанровыми условностями и откровенно игровыми, литературными, постмодернистскими деталями, с другой — ломает представление о статусе литературы в обществе. Семейный роман тайн, в которые суют нос эксцентрично выглядящие Холмс и Ватсон начала 21 века, оборачивается панорамной эпопеей об обществе, которое вот уже лет сто поражено моральным раком.
Несколько потрепанный жизнью, но еще способный производить впечатление журналист нанят меланхоличным толстосумом, который единственный во всем мире не отчаялся найти исчезнувшую много лет назад любимую внучку: полицейское расследование ничего не дало, возможно, что-то обнаружит непрофессионал с цепким глазом. Журналист заводит шашни с помогающей ему странной хакершей, преследующей, впрочем, и кое-какие свои интересы. Она похожа на Пеппи Длинныйчулок, он — на сыщика Калле Блумквиста; вся эта серьезная история о по-настоящему рискующих жизнями взрослых людях, с одной стороны, страшно инфантильная, изобилует жанровыми условностями и откровенно игровыми, литературными, постмодернистскими деталями, с другой — ломает представление о статусе литературы в обществе. Семейный роман тайн, в которые суют нос эксцентрично выглядящие Холмс и Ватсон начала 21 века, оборачивается панорамной эпопеей об обществе, которое вот уже лет сто поражено моральным раком.
Трилогия Ларссона (первый роман кажется захватывающим, как «Граф Монте-Кристо», второй — как «Лунный камень», третий — как «Три мушкетера») – создает впечатление, что литература в Швеции гораздо больше, чем просто беллетристика: политическая, по сути, институция, «пятая власть», создающая почву для плюрализма критических мнений в капиталистическом обществе и обеспечивающая не менее эффективный контроль за деятельностью элит, чем пресса; и если пресса фокусирует внимание читателей лишь на отдельных «проблемных зонах», то романистика показывает им картину мира в целом – и задает моральные оринтиры для той роли, которую либеральная интеллигенция обязана играть в нем.
7. Хеннинг Бергер «Потоп»
Пьеса малоизвестного даже в самой Швеции автора благодаря вахтанговской постановке в МХТ 1915 года на десятилетия стала культовой — и сыграла важную роль в истории русского театра (хотя официально считалась всего лишь сатирой на современную бездуховную Америку). Действие происходит в американском баре: пара бизнесменов, проститутка, бармен, официант и прочие завсегдатаи и служащие, колоритные персонажи галереи «типов», вдруг оказываются жертвами стихии и ожидают почти неминуемой смерти – изолированные потопом от мира; а затем происходит некий твист, поворот винта, радикально меняющий ситуацию. Перемены внешней конъюнктуры обнажают человеческие характеры, обеспечивают обстоятельства для гротескного психологического эксперимента. Шведы еще раз подтвердили свою репутацию наблюдателей, обладающих цепким глазом и тонким социальным чутьем: слово «Америка» мало кого обманывало, ясно было, что снести плотину может не только Миссисипи, но и Темза, Рейн, Сена или Дунай; разумеется, зрители воспринимали историю как притчу: климатическая катастрофа входит в резонанс с социальной, а природный катаклизм подразумевает и предвещает бурю общественную.
8. Черстин Экман “Происшествия у воды”
 Газетная заметка называется «Туристы в деревне смерти»: «Молодая девушка и неизвестный мужчина зарезаны в палатке в ночь на Мидсоммар». Однако газетам дело об обитателях коммун-«коллективов» не по зубам; расследование топчется на месте – и ладно бы день или месяц: десятилетия. Затем в тех же краях снова проливается кровь, и хотя между двумя убийствами проходит двадцать лет — повторяемость выглядит крайне зловещей; нет, это точно не совпадение, и культура нью-эйдж, похоже, в самом деле содержит в своем ядре идею свободы насилия. «Дьявол! Как все противно и отвратительно. Жить и сражаться и все равно пасть от клеточной аномалии или кучки бактерий или нескольких свинцовых дробин — или воды! Причастна посредством воды. Почему она так сказала? Я причастна посредством воды». «Происшествия у воды» – детективный роман, в котором «подводные течения» – настроения и тревоги – важнее, чем те слова, что произнесены; конфликты, которые вышли на поверхность, – лишь верхняя часть айсберга. Все персонажи здесь либо говорят чересчур много, либо красноречиво молчат — и все словно измучены экзистенциальной неопределенностью; возможно, это и есть адекватный портрет Швеции 1990-х годов, отразившийся в нарочно замутненном — принявшем в себя слишком много биологических жидкостей — водяном зеркале.
Газетная заметка называется «Туристы в деревне смерти»: «Молодая девушка и неизвестный мужчина зарезаны в палатке в ночь на Мидсоммар». Однако газетам дело об обитателях коммун-«коллективов» не по зубам; расследование топчется на месте – и ладно бы день или месяц: десятилетия. Затем в тех же краях снова проливается кровь, и хотя между двумя убийствами проходит двадцать лет — повторяемость выглядит крайне зловещей; нет, это точно не совпадение, и культура нью-эйдж, похоже, в самом деле содержит в своем ядре идею свободы насилия. «Дьявол! Как все противно и отвратительно. Жить и сражаться и все равно пасть от клеточной аномалии или кучки бактерий или нескольких свинцовых дробин — или воды! Причастна посредством воды. Почему она так сказала? Я причастна посредством воды». «Происшествия у воды» – детективный роман, в котором «подводные течения» – настроения и тревоги – важнее, чем те слова, что произнесены; конфликты, которые вышли на поверхность, – лишь верхняя часть айсберга. Все персонажи здесь либо говорят чересчур много, либо красноречиво молчат — и все словно измучены экзистенциальной неопределенностью; возможно, это и есть адекватный портрет Швеции 1990-х годов, отразившийся в нарочно замутненном — принявшем в себя слишком много биологических жидкостей — водяном зеркале.
9. Юхан Теорин «Ночной шторм»
 Одна из самых часто рассказываемых шведскими авторами историй — про то, как обычная семья, устав от городской суеты, переезжает в глубинку, чтобы получить возможность без помех наслаждаться красотой и умиротворенностью природы. Как раз в этот момент горожане и становятся жертвами агрессии иррациональных сил, дремлющих в тихих омутах. Действие «Эландского Квартета» Юхана Теорина разворачивается на шведском острове в Балтике — где, помимо крестьян и курортников, водятся воры-сатанисты, серийные убийцы и сектанты, имеющие богатый опыт по части жертвоприношений в местных торфяниках. В воздухе сгущается электричество, семья — разрушена, и даже у угрей здесь такой странный вкус, что возникает вопрос, нет ли в их меню человечины. «Атмосферный» роман — в котором сугубо функциональные детали кажутся загадочными, а повседневные — жуткими: граница между миром живых и мертвых, яви и нави, людей и призраков размыта, и маяки на мысах кажутся обелисками, увековечивающими трагизм нашей слепоты. Генерирующая тайные смыслы действительность дает понять, что от нее не убежишь при помощи перемены дизайна, и особенно аккуратным следует быть тому, кто оказался в изолированном от большого мира месте, на острове, — и буквально, и метафорически.
Одна из самых часто рассказываемых шведскими авторами историй — про то, как обычная семья, устав от городской суеты, переезжает в глубинку, чтобы получить возможность без помех наслаждаться красотой и умиротворенностью природы. Как раз в этот момент горожане и становятся жертвами агрессии иррациональных сил, дремлющих в тихих омутах. Действие «Эландского Квартета» Юхана Теорина разворачивается на шведском острове в Балтике — где, помимо крестьян и курортников, водятся воры-сатанисты, серийные убийцы и сектанты, имеющие богатый опыт по части жертвоприношений в местных торфяниках. В воздухе сгущается электричество, семья — разрушена, и даже у угрей здесь такой странный вкус, что возникает вопрос, нет ли в их меню человечины. «Атмосферный» роман — в котором сугубо функциональные детали кажутся загадочными, а повседневные — жуткими: граница между миром живых и мертвых, яви и нави, людей и призраков размыта, и маяки на мысах кажутся обелисками, увековечивающими трагизм нашей слепоты. Генерирующая тайные смыслы действительность дает понять, что от нее не убежишь при помощи перемены дизайна, и особенно аккуратным следует быть тому, кто оказался в изолированном от большого мира месте, на острове, — и буквально, и метафорически.
10. Камилла Лэкберг “Проповедник”
 Фьельбакка — еще один, наряду со Стокгольмом, Истадом, и Эландом, искусственно созданный и рассчитанный на долгосрочную эксплуатацию шведский «парк преступлений»: местность, в реальности идиллическая, на вкус автора детективной серии — удобная сценическая площадка, оборудованная всем необходимым реквизитом; зажатый стенами Кунгсклифтан (“Королевской расщелины”) камень, известная локальная достопримечательность, – хорошая аллегория жуткого прошлого, опасно нависающего над сегодняшним благополучием. Неудивительно, что хотя бы раз в сезон рядом с этим каменем обнаруживается нечто удивительное: например, грангиньольный сэндвич, где свежий кадавр погребен под двумя скелетами четвертьвековой давности. Единственный человек, который в состоянии раскрыть здешние многослойные и во всех смыслах не ординарные убийства: двойные, тройные – местный житель и следователь Патрик Хедстрём. Сам плотно вовлеченный в семейную жизнь, он в состоянии разобраться в сложных клановых отношениях — ведь в бэкграунде многих преступлений лежат давние семейные ссоры. “Проповедник” улавливает критические для семейных отношений психологические моменты, которые кажутся эфемерными, но в известных обстоятельствах — и в соответствующем моральном микроклимате – могут приводить к катастрофическим последствиям.
Фьельбакка — еще один, наряду со Стокгольмом, Истадом, и Эландом, искусственно созданный и рассчитанный на долгосрочную эксплуатацию шведский «парк преступлений»: местность, в реальности идиллическая, на вкус автора детективной серии — удобная сценическая площадка, оборудованная всем необходимым реквизитом; зажатый стенами Кунгсклифтан (“Королевской расщелины”) камень, известная локальная достопримечательность, – хорошая аллегория жуткого прошлого, опасно нависающего над сегодняшним благополучием. Неудивительно, что хотя бы раз в сезон рядом с этим каменем обнаруживается нечто удивительное: например, грангиньольный сэндвич, где свежий кадавр погребен под двумя скелетами четвертьвековой давности. Единственный человек, который в состоянии раскрыть здешние многослойные и во всех смыслах не ординарные убийства: двойные, тройные – местный житель и следователь Патрик Хедстрём. Сам плотно вовлеченный в семейную жизнь, он в состоянии разобраться в сложных клановых отношениях — ведь в бэкграунде многих преступлений лежат давние семейные ссоры. “Проповедник” улавливает критические для семейных отношений психологические моменты, которые кажутся эфемерными, но в известных обстоятельствах — и в соответствующем моральном микроклимате – могут приводить к катастрофическим последствиям.
11. Лиза Марклунд «Громкое дело»
 Торчащая из сугроба нога в женском зимнем сапоге могла бы стать аватаром для какого-нибудь приложения, открывающего дверь в мир шведского детектива, где персонажи озабочены не просто восстановлением временно нарушенного порядка, но одержимы идеей построить мир, в котором насилие мужчин над женщинами было бы невозможным; именно с такой вот ноги и начинается девятый роман из знаменитой детективной серии о стокгольмской журналистке Аннике Бенгтзон. Одновременно с расследованием убийства героиня пытается спасти своего мужа, который борется с коррупцией и преступностью в Африке, – чтобы самому стать жертвой похищения на кенийско-сомалийской границе. Африка «рифмуется» со Швецией: где нет и быть не может геноцидов и инцестов по принуждению, а настоящей катастрофой кажется присутствие в спальне главной героини постороннего человека.
Торчащая из сугроба нога в женском зимнем сапоге могла бы стать аватаром для какого-нибудь приложения, открывающего дверь в мир шведского детектива, где персонажи озабочены не просто восстановлением временно нарушенного порядка, но одержимы идеей построить мир, в котором насилие мужчин над женщинами было бы невозможным; именно с такой вот ноги и начинается девятый роман из знаменитой детективной серии о стокгольмской журналистке Аннике Бенгтзон. Одновременно с расследованием убийства героиня пытается спасти своего мужа, который борется с коррупцией и преступностью в Африке, – чтобы самому стать жертвой похищения на кенийско-сомалийской границе. Африка «рифмуется» со Швецией: где нет и быть не может геноцидов и инцестов по принуждению, а настоящей катастрофой кажется присутствие в спальне главной героини постороннего человека.
12. Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»
 «Карлсон» стал в СССР и России по-настоящему иконическим текстом — который врос в коллективное сознание, вошел в фольклор и разошелся на цитаты, как «Горе от ума». Традиционное объяснение феномена – почему этот текст удалось экспортировать, по сути, только в одну страну? – состоит в том, что все дело в ярком переводе Л. Лунгиной. Более убедительной выглядит версия о том, что «Карлсон» подсознательно воспринимался жителями СССР как тонкая сатира на одержимость общества Большим Космическим проектом, идеей перманентного завоевания Космоса; ведь, по сути, история про Карлсона предлагает ребенку — да и взрослому — не менее захватывающую и гораздо более щадящую альтернативу. Зачем летает домашний космонавт, пусть не преодолевший гравитацию, но каким-то образом обманувший, перехитривший ее, – гораздо понятнее, чем зачем лететь в Большой космос: для развлечения, по мелким персональным хозяйственным делам и ради общественной пользы. Карлсон проявляет толерантность к мигрантам, борется с домашним насилием, эффективно посредничает между отцами и детьми, остроумно высмеивает одержимость общества новыми технологиями (сцена воровства плюшек со стола при помощи пылесоса), чрезмерную буржуазность и увлечение массовой культурой. Неслучайно все прочие взрослые в этой истории заворожены телевизором и другими массовыми медиа – тогда как на Карлсона их магия не действует. Его самострой на крыше — тот фронтир, бастион, последний рубеж, где «домашняя», кустарная культура держит оборону против наступающей массовой – многоквартирной, многоантенной. Неслучайно больше всего Карлсон опасается, что возьмут в оборот его мотор – уникальную вещь, ярко выделяющуюся в мире, где все инновации воспроизводимы и быстро запускаются в массовое производство. Карлсон владеет подлинным произведением искусства, единственным оригиналом в мире, где оригиналы отмерли.
«Карлсон» стал в СССР и России по-настоящему иконическим текстом — который врос в коллективное сознание, вошел в фольклор и разошелся на цитаты, как «Горе от ума». Традиционное объяснение феномена – почему этот текст удалось экспортировать, по сути, только в одну страну? – состоит в том, что все дело в ярком переводе Л. Лунгиной. Более убедительной выглядит версия о том, что «Карлсон» подсознательно воспринимался жителями СССР как тонкая сатира на одержимость общества Большим Космическим проектом, идеей перманентного завоевания Космоса; ведь, по сути, история про Карлсона предлагает ребенку — да и взрослому — не менее захватывающую и гораздо более щадящую альтернативу. Зачем летает домашний космонавт, пусть не преодолевший гравитацию, но каким-то образом обманувший, перехитривший ее, – гораздо понятнее, чем зачем лететь в Большой космос: для развлечения, по мелким персональным хозяйственным делам и ради общественной пользы. Карлсон проявляет толерантность к мигрантам, борется с домашним насилием, эффективно посредничает между отцами и детьми, остроумно высмеивает одержимость общества новыми технологиями (сцена воровства плюшек со стола при помощи пылесоса), чрезмерную буржуазность и увлечение массовой культурой. Неслучайно все прочие взрослые в этой истории заворожены телевизором и другими массовыми медиа – тогда как на Карлсона их магия не действует. Его самострой на крыше — тот фронтир, бастион, последний рубеж, где «домашняя», кустарная культура держит оборону против наступающей массовой – многоквартирной, многоантенной. Неслучайно больше всего Карлсон опасается, что возьмут в оборот его мотор – уникальную вещь, ярко выделяющуюся в мире, где все инновации воспроизводимы и быстро запускаются в массовое производство. Карлсон владеет подлинным произведением искусства, единственным оригиналом в мире, где оригиналы отмерли.
Словом, этот странный «летающий бочонок» – гораздо больше, чем обычный «воображаемый друг», который избавил ребенка от одиночества. Карлсон – фантомное антитело, выработанное социальным организмом, чтобы обеспечить иммунитет против эпидемии унификации; антидот и от буржуазной пошлости дядюшки Юлиуса, и от патерналистского социализма родителей Малыша.
При желании можно пойти и дальше и подумать о параллелях между Карлсоном и Мессией, явившемся обществу, лишившемуся религиозных основ: в конце концов, разве не про пришествие обычно бывают истории, в которых главную роль играет существо, способное левитировать?